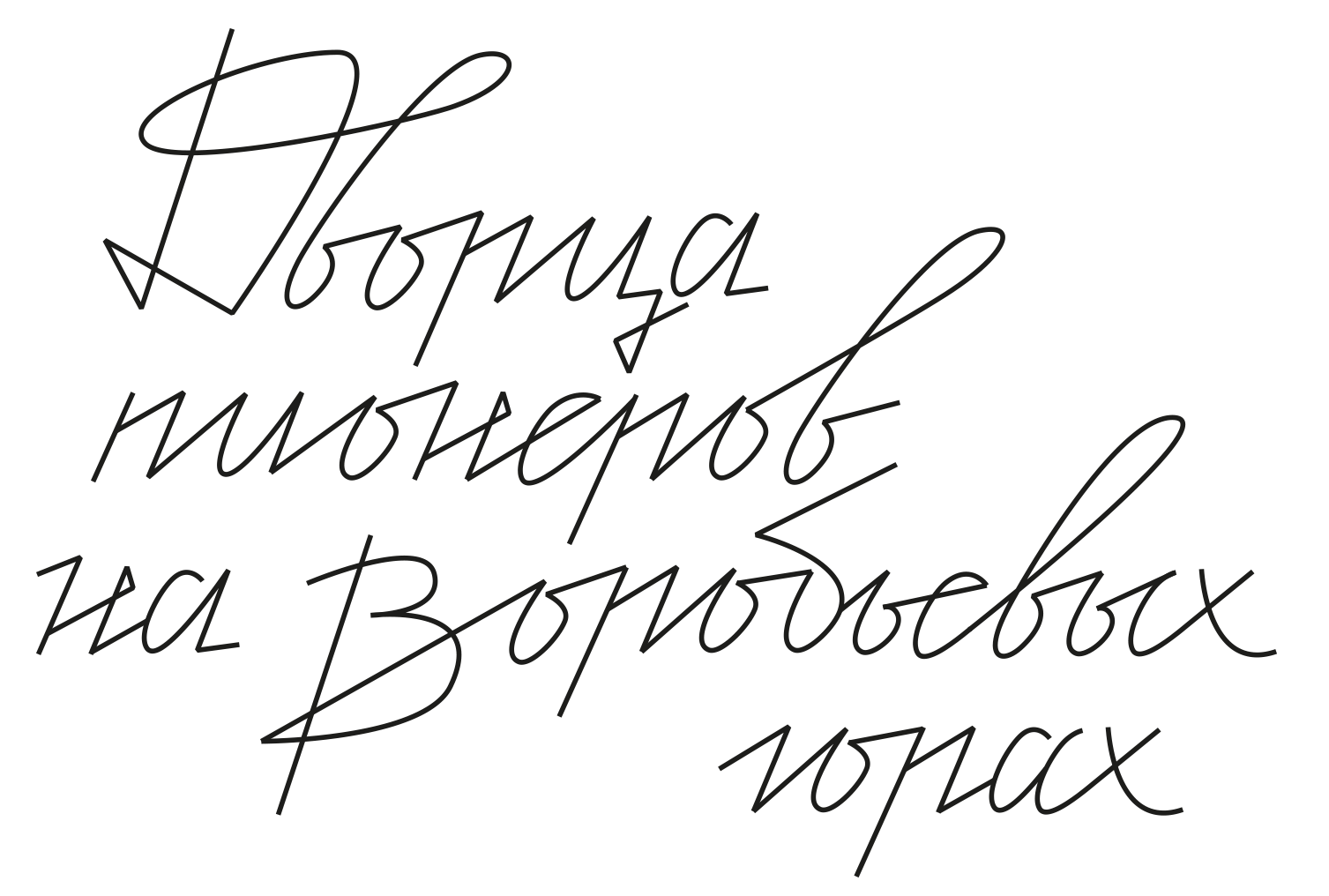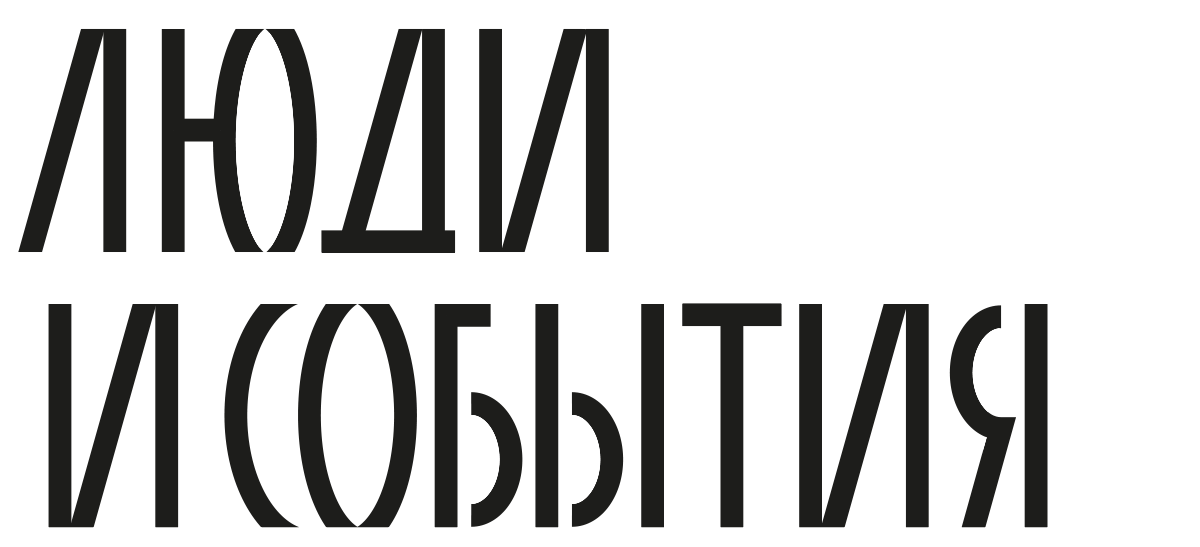Сергей Викторович Розов – уникальный человек, умеющий быть полезным и успешным повсюду, куда бы ни занесла его судьба. Режиссер и педагог, художественный руководитель и методист – в искусстве театра много профессий, с которыми Сергей Викторович себя связал. Пожалуй, только не с профессией драматурга, которой посвятил свою жизнь его отец Виктор Сергеевич Розов. О жизни знаменитого Театра юных москвичей Московского дворца пионеров и достижениях театральных методистов дворца рассказывает сам Сергей Викторович Розов.
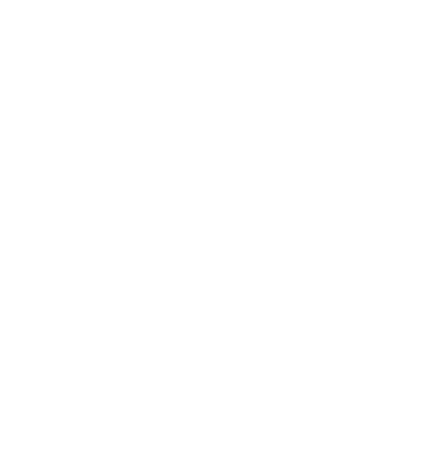
На подступах к дворцу
По образованию я режиссер драматического театра, вся моя жизнь до Московского дворца пионеров была связана с театральным творчеством. Хотя к моменту прихода во дворец, в легендарный ТЮМ, я ощущал себя достаточно реализованным практикующим режиссером, но понял, что театральная педагогика становится моим главным приоритетом.
Педагогика увлекла меня после окончания режиссерского факультета ГИТИСа, где я почти сразу после выпуска стал преподавать. Параллельно работал режиссером в Центральном детском театре, ныне РАМТ. Ребенком я, как ни странно, не ходил в театральную студию, хотя уже в старших классах поставил самостоятельно в школе спектакль по «Дракону» Шварца и был ассистентом нашего школьного педагога по литературе. Так получилось, что в институтский период я учился у трех выдающихся деятелей нашей культуры. Сначала в Ленинграде, в ЛГИТМиКе, у Георгия Александровича Товстоногова. Потом перевелся в Москву и учился у интереснейшего режиссера и человека Иосифа Михайловича Туманова, который был в свое время режиссером Большого театра, Московского театра оперетты, главным режиссером московской Олимпиады 1980 года.
Педагогика увлекла меня после окончания режиссерского факультета ГИТИСа, где я почти сразу после выпуска стал преподавать. Параллельно работал режиссером в Центральном детском театре, ныне РАМТ. Ребенком я, как ни странно, не ходил в театральную студию, хотя уже в старших классах поставил самостоятельно в школе спектакль по «Дракону» Шварца и был ассистентом нашего школьного педагога по литературе. Так получилось, что в институтский период я учился у трех выдающихся деятелей нашей культуры. Сначала в Ленинграде, в ЛГИТМиКе, у Георгия Александровича Товстоногова. Потом перевелся в Москву и учился у интереснейшего режиссера и человека Иосифа Михайловича Туманова, который был в свое время режиссером Большого театра, Московского театра оперетты, главным режиссером московской Олимпиады 1980 года.
Заканчивал обучение я у легендарного педагога Марии Иосифовны Кнебель, у которой учились многие наши выдающиеся режиссеры. У каждого из них я чему-то научился для будущей профессии, и моя режиссерская деятельность сложилась удачно: в советское время две постановки в год было очень хорошим результатом. К 45 годам я осуществил порядка 60 постановок. И к этому периоду жизни педагогика меня увлекла гораздо больше.
Среди известных имен моих гитисовских выпускников – Марина Яковлева («Раз, два – горе не беда!», «Продлись, продлись, очарованье…», «Диверсант», «СуперИвановы»), Татьяна Аксюта («Вам и не снилось»), ее муж Юрий Аксюта, известный медиаменеджер («Европа плюс», «Фабрика звезд», «Золотой граммофон», «Две звезды»). С 1981 по 1985 годы я был главным режиссером ярославского ТЮЗа. В ярославском театральном институте выпустил актерский курс с замечательным человеком, актером Валерием Сергеевичем Нельским. Известными выпускниками нашего ярославского курса стали режиссер Григорий Константинопольский, шоумен и певец Сергей Крылов, актер и режиссер Рамиль Сабитов, артист Александр Евдокимов и другие.
Среди известных имен моих гитисовских выпускников – Марина Яковлева («Раз, два – горе не беда!», «Продлись, продлись, очарованье…», «Диверсант», «СуперИвановы»), Татьяна Аксюта («Вам и не снилось»), ее муж Юрий Аксюта, известный медиаменеджер («Европа плюс», «Фабрика звезд», «Золотой граммофон», «Две звезды»). С 1981 по 1985 годы я был главным режиссером ярославского ТЮЗа. В ярославском театральном институте выпустил актерский курс с замечательным человеком, актером Валерием Сергеевичем Нельским. Известными выпускниками нашего ярославского курса стали режиссер Григорий Константинопольский, шоумен и певец Сергей Крылов, актер и режиссер Рамиль Сабитов, артист Александр Евдокимов и другие.
«Вольно-поисковая атмосфера»
Во дворце я оказался и случайно, и неслучайно. Работая в разные годы в Центральном детском театре сначала от комитета комсомола театра, потом как режиссер и работник педагогической части, я понял, что меня увлекает работа со школами, с подростками. Это были маленькие выездные спектакли, которые мы делали с актерами РАМТа. Особенно много их было в тяжелые для театрального искусства 1990-е годы, когда зрительский спрос на театральные зрелища упал.
Так и получилось, что я постоянно держал связь со школьной общественностью, начиная с периода комитета комсомола. Ездил по школам с выездными спектаклями, работал в жюри многих фестивалей, курировал театральное направление фестиваля «Юные таланты Московии».
Жизнь свела с дворцом так: в 2002 году поступило предложение от руководителя центра художественного образования Марины Степановны Алешиной помочь наладить театральную деятельность во дворце, так как многолетний руководитель ТЮМа Александр Николаевич Тюкавкин ушел в профессиональную театральную сферу. Четыре года я помогал налаживать театральное направление и работал по совместительству. Моей главной задачей было найти интересного молодого режиссера, который увлек бы театром ребят. Таким режиссером стал Юрий Алесин. Позже Алешина мне предложила ставку художественного руководителя ТЮМа, я согласился, и как-то, что называется, прикипел к Дворцу. С 2006 года работаю в штате и с тех пор целиком погрузился в дворцовскую жизнь, которая очень интересна и интенсивна.
Меня, профессионального человека, с детства общавшегося с разными культовыми фигурами отечественного театра, привлекла вольно-поисковая атмосфера всего дворца. Мне даже казалось, что в начале 2000-х не было забора, но коллеги уточнили, что забор был, но атмосфера его словно отменяла. Дух этот сохранился до сих пор, хотя, конечно, нормативная база стала гораздо жестче. В начале 2000-х годов директором дворца был недавно ушедший из жизни Дмитрий Львович Монахов, поразительно творческий, открытый новым педагогическим идеям, доброжелательный. В его словаре не было слова «невозможно». Самое отрицательное, что он мог сказать: «Надо думать, как нам это провести». Как раз в тот период пришли Юрий Алесин, мой выпускник из института культуры Иван Карпенко, он стал специалистом по биомеханике.
Меня, профессионального человека, с детства общавшегося с разными культовыми фигурами отечественного театра, привлекла вольно-поисковая атмосфера всего дворца. Мне даже казалось, что в начале 2000-х не было забора, но коллеги уточнили, что забор был, но атмосфера его словно отменяла. Дух этот сохранился до сих пор, хотя, конечно, нормативная база стала гораздо жестче. В начале 2000-х годов директором дворца был недавно ушедший из жизни Дмитрий Львович Монахов, поразительно творческий, открытый новым педагогическим идеям, доброжелательный. В его словаре не было слова «невозможно». Самое отрицательное, что он мог сказать: «Надо думать, как нам это провести». Как раз в тот период пришли Юрий Алесин, мой выпускник из института культуры Иван Карпенко, он стал специалистом по биомеханике.
Приглашенным режиссером у нас был Яков Сергеевич Ломкин, артист театра «Сатирикон», который, работая у нас, нашел свое призвание в постановочной деятельности. На его спектакль «Две стрелы» был невероятный спрос.
Сейчас у нас замечательный режиссер Андрей Задубровский, выпускник актерского факультета Щукинского театрального училища с замечательным режиссерским видением, и мы много работаем для города. Играем на площадках по всей Москве, в активном репертуаре «Балда», «Гроза», цикл по «Повестям Белкина», группа Натальи Боровской ставит «Маугли», «Дети страусов», «Капитаны песка».
Я был художественным руководителем центра художественного образования с 2006 по 2014 годы. Мое руководство при поддержке Марины Степановны Алешиной и Елены Евгеньевны Лебедевой было достаточно креативным. С 2018 года в нашем штатном расписании стало больше педагогических ставок, и с того времени я работаю методистом. На любой должности я считал, что то, чем я занимаюсь, это самое главное, чем должно жить учреждение. Был режиссером – считал самым главным качество спектакля. Стал режиссером педагогической части театра – сразу стала главной педагогическая работа со зрителями. Сейчас вместе с Андреем Задубровским мы проводим много семинаров и вебинаров, в том числе на всю Россию. На сайте ВЦХТ и в архивах Российского движения школьников эти вебинары должны сохраняться.
Сейчас у нас замечательный режиссер Андрей Задубровский, выпускник актерского факультета Щукинского театрального училища с замечательным режиссерским видением, и мы много работаем для города. Играем на площадках по всей Москве, в активном репертуаре «Балда», «Гроза», цикл по «Повестям Белкина», группа Натальи Боровской ставит «Маугли», «Дети страусов», «Капитаны песка».
Я был художественным руководителем центра художественного образования с 2006 по 2014 годы. Мое руководство при поддержке Марины Степановны Алешиной и Елены Евгеньевны Лебедевой было достаточно креативным. С 2018 года в нашем штатном расписании стало больше педагогических ставок, и с того времени я работаю методистом. На любой должности я считал, что то, чем я занимаюсь, это самое главное, чем должно жить учреждение. Был режиссером – считал самым главным качество спектакля. Стал режиссером педагогической части театра – сразу стала главной педагогическая работа со зрителями. Сейчас вместе с Андреем Задубровским мы проводим много семинаров и вебинаров, в том числе на всю Россию. На сайте ВЦХТ и в архивах Российского движения школьников эти вебинары должны сохраняться.
В начале 2000-х ТЮМ входил в ЦХО, и мы делали большие интегрированные проекты. Например, именно тогда был задуман театральный фестиваль «В добрый час», который сейчас проходит в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины». Тогда мы его проводили не по видам искусства, а по временам года. Осень у нас называлась «Первые шаги», так как многие приходят заниматься осенью, и если это выставка, то это первый эскиз, первый набросок. На «Первых шагах» мы показывали первые театральные этюды, переживали предощущение какого-то большого пути. Зима у нас была связана с чудесами. Мы называли зимний период «Миром непознанного». В марте мы были «В поисках смыслов», когда уже пройдена часть программы и наступало время что-то переосмыслить: я сделал правильный выбор? я познаю мир через то, чем занимаюсь? К Дню защиты детей мы проводили карнавал, методологически подкрепленный демонстрацией результатов педагогической деятельности. У нас был фантастически талантливый методист, к сожалению, рано ушедший из жизни, Николай Николаевич Лебедь, мы с ним вели этот проект, и больше половины задумок были его.
Вообще каждый руководитель, педагог, методист, каждый учебный год привносят в образовательный процесс что-то свое, интересное, и я, побывавший по разные стороны «баррикад», полностью признаю, что в сфере дополнительного образования перемены и новшества происходят гораздо быстрее и ярче, чем в профессиональном театре. Сфера образования развивается очень активно. Как эксперт и методист я помогаю подобрать репертуар исходя из личности педагога и в идеале не только поставить спектакль, но развернуть вокруг него проектную деятельность. Сейчас мы снова отстраиваем конкурентоспособность наших образовательных программ. Во многих школах очень неплохо сейчас поставлено дело в дополнительном образовании, школьные театры сейчас есть практически в каждой школе. Поэтому мы в новых реалиях должны успешно ответить на вопрос, чем будем удивлять, ведь мы способствовали тому, чтобы театры массово создавались в общеобразовательных школах.
«Колобок» как общешкольный проект
Несколько лет назад мы, как опытные методисты дополнительного образования, получили предложение оказывать содействие в создании школьных театров и помогать нашим коллегам, высоким профессионалам из Щукинского училища и энтузиастам из «Движения первых» в подборе наиболее методически мыслящих педагогов для этой цели. «Щукинцы» сейчас партнеры «Движения первых» со стороны театра, дворец, как и городская конкурсная программа «Новые вершины», также оказывают «Движению первых» методическую помощь по линии театра. Помогаем, транслируем свои знания, например, через отсмотр заявок фестиваля «Школьная классика». Мне очень понравилось задание первого этапа фестиваля «Школьная классика», который дали «щукинцы» – фрагмент репетиции. Оценивается, как она ведется, насколько учитываются рекомендации не подталкивать ребенка к результату, к изображению и иллюстрированию персонажа.
Школьные театры – замечательный пример того, как рекомендации методистов действительно пошли в жизнь. Но дальше важно, как реализуется жизнь школьного театра. Что дает школьный театр, в который ходят, например, 6 девочек, жизни всего образовательного комплекса численностью 3 тысячи человек. Мы, участники московских и федеральных методических объединений, очень долго бились за то, чтобы само наличие театра в школе учитывалось при рейтинге школы.
Школьные театры – замечательный пример того, как рекомендации методистов действительно пошли в жизнь. Но дальше важно, как реализуется жизнь школьного театра. Что дает школьный театр, в который ходят, например, 6 девочек, жизни всего образовательного комплекса численностью 3 тысячи человек. Мы, участники московских и федеральных методических объединений, очень долго бились за то, чтобы само наличие театра в школе учитывалось при рейтинге школы.
Не погоня за лауреатством, которое является личным достижением педагога, а сам факт театра в школе.
Мы придерживаемся той мысли, что в школе отчетной формой деятельности театра должен быть не спектакль, а общешкольный проект, в который вовлекаются по возможности все классы. Вот, к примеру, в порядке фантазии: если ставится «Колобок», то его сюжет и смыслы из всех школьных предметов становятся центром энергетически проектного притяжения всей школы. Школьники могут делать проекты: из чего испечён колобок, с какой скоростью он катился по траве, а с какой по лесу, как деформирование его поверхности от соприкосновения с почвой влияло на его сохранность и скорость, при какой первоначальной температуре печи он бы продержался дольше, и так далее. Спектакля такой проект не отменяет, и у него тоже может быть превью и обсуждение после в виде квиза, открытый микрофон или мини рецензирование для зрителей. Раз уж в школе есть театр, он должен стать мощным творческим центром! Для школьного театра обсуждение спектакля, пьесы необычайно важно. В МТЮЗе конца 1980-х, когда Кама Гинкас и Генриетта Яновская только пришли туда, такие обсуждения со школьниками прямо на лестнице в фойе были чрезвычайно популярны и востребованы.
Мы придерживаемся той мысли, что в школе отчетной формой деятельности театра должен быть не спектакль, а общешкольный проект, в который вовлекаются по возможности все классы. Вот, к примеру, в порядке фантазии: если ставится «Колобок», то его сюжет и смыслы из всех школьных предметов становятся центром энергетически проектного притяжения всей школы. Школьники могут делать проекты: из чего испечён колобок, с какой скоростью он катился по траве, а с какой по лесу, как деформирование его поверхности от соприкосновения с почвой влияло на его сохранность и скорость, при какой первоначальной температуре печи он бы продержался дольше, и так далее. Спектакля такой проект не отменяет, и у него тоже может быть превью и обсуждение после в виде квиза, открытый микрофон или мини рецензирование для зрителей. Раз уж в школе есть театр, он должен стать мощным творческим центром! Для школьного театра обсуждение спектакля, пьесы необычайно важно. В МТЮЗе конца 1980-х, когда Кама Гинкас и Генриетта Яновская только пришли туда, такие обсуждения со школьниками прямо на лестнице в фойе были чрезвычайно популярны и востребованы.
Или постановка «Евгения Онегина». Школьная классика. На нее можно посмотреть с очень разных сторон. Когда у нас в ТЮМе шел спектакль «Таня Ларина» по «Онегину», то после представления мы проводили его обсуждение. Не столько самого спектакля, сколько проблематики пушкинского романа. И всплывали порой совершенно неожиданные для нас аспекты. Вот, например. Письмо Татьяны Пушкин переводит с французского – «она по-русски плохо знала». То есть Татьяна живет в русской деревне, но пишет свое любовное письмо на французском, так принято в ту эпоху. Но французский не язык ее мыслей, не язык ее души,в голову ей лезут банальности. И это расхождение ее банально-ученического слога с искренностью ее порыва пугает Онегина. При личной встрече с ней спустя годы он очарован, Татьяна разговаривает с ним по-русски, он поражен ее умом. Николай Первый запретил разговаривать в салонах на французском языке. Сам Пушкин, пока писал «Онегина», прошел огромный духовный, душевный путь от человека светского к человеку, воспевающему простое сельское кладбище.
Отбросьте ложных кумиров и найдите сами себя. Такие мысли наших зрителей порой были неожиданны и для нас, создателей и исполнителей спектакля, и для общепринятой трактовки романа. Они способствовали дальнейшей работе и в чем-то корректировке первоначального замысла.
Мне всегда было интересно ездить в обычные школы, разговаривать про произведения школьной программы. Может быть, у меня это от отца, всемирно известного драматурга Виктора Розова (все, наверное, смотрели фильм «Летят журавли»). Он никогда не отказывался от встреч с людьми, со всеми общался без чинов, будь то президиум Академии наук или сельская школа. Скорее всего, мне это передалось: не назидательное просветительство, но совместный поиск смыслов в форме диалога.
Мне всегда было интересно ездить в обычные школы, разговаривать про произведения школьной программы. Может быть, у меня это от отца, всемирно известного драматурга Виктора Розова (все, наверное, смотрели фильм «Летят журавли»). Он никогда не отказывался от встреч с людьми, со всеми общался без чинов, будь то президиум Академии наук или сельская школа. Скорее всего, мне это передалось: не назидательное просветительство, но совместный поиск смыслов в форме диалога.